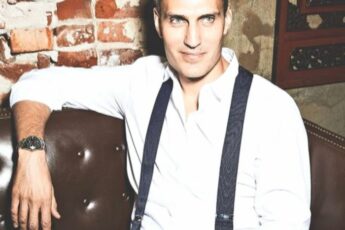— Мам, это я.
Елизавета Андреевна не обернулась. Она стояла спиной к вошедшему в прихожую сыну, методично протирая бархатистой тряпочкой и без того сверкающую поверхность тёмного комода из полированного дерева. Воздух в квартире был густым и неподвижным, пропитанным стерильным запахом лимонной полироли и едва уловимой аптечной ноткой валерианы. Здесь всё имело своё единственно верное место: фарфоровые слоники на полке стояли строго по росту, стопка журналов на кофейном столике была выровнена по линейке, а накрахмаленная салфетка под вазой лежала идеально по центру. Мир Елизаветы Андреевны не терпел хаоса, случайных пятен и чужого мнения.
— Я вижу, что это ты, Антон, — её голос был ровным и холодным, как стекло, которое она так любила натирать до блеска. — Разувайся. Не неси уличную грязь в дом.
Антон молча снял ботинки. Он приехал сюда с одной целью — погасить разгорающийся пожар, выступить буфером, дипломатом, миротворцем. Он заранее продумал слова, подобрал аргументы, но вся его заготовка рассыпалась прахом, столкнувшись с этой демонстративной, ледяной спиной. Он прошёл в гостиную и сел на краешек дивана, обитого жёстким, неприятным на ощупь гобеленом.
— Мам, давай поговорим спокойно. Зачем ты так с Верой? Она весь вечер сама не своя после того разговора.
Елизавета Андреевна наконец закончила с комодом. Она тщательно сложила тряпочку вчетверо и положила её на специально отведённое для этого блюдце. Только после этого ритуала она повернулась к сыну. Её лицо было непроницаемым, как у судьи, выслушивающего заранее проигранное дело.
— А что я сделала? — она вскинула идеально выщипанные брови. — Я высказала своё мнение. Или в этом доме старшим уже и слова сказать нельзя? Я, может быть, жизнь прожила и немного больше понимаю в том, как должна выглядеть невеста, а не девица из варьете.
— При чём здесь варьете? Платье прекрасное. Элегантное, строгое, с закрытыми плечами. Там нет ничего вульгарного, ни единого намёка. Вера выбирала его три недели.
— Три недели она выбирала себе наряд, чтобы выставить себя на посмешище, — отрезала мать, проходя мимо него к окну. Она поправила несуществующую складку на тяжёлой портьере. — Открытая спина до поясницы — это, по-твоему, элегантно? Это вызов. Это нескромно. Женщина, которая готовится стать женой, хранительницей очага, не должна так себя подавать. Она должна быть воплощением чистоты и смирения, а не… этого.
Антон почувствовал, как внутри поднимается раздражение. Он старался держать его под контролем, помня, зачем приехал.
— Это современная мода, мам. Красивый вырез, который абсолютно ничего не опошляет. У Веры есть свой вкус, своё видение. И она имеет на это право.
Елизавета Андреевна резко развернулась. Её спокойствие дало первую трещину, и в голосе появились жёсткие металлические нотки.
— Вкус? Право? Антон, опомнись. О каком праве ты говоришь? Она входит в нашу семью. В мою семью. И в нашей семье всегда уважали старших и прислушивались к их советам. Дело не в платье, пойми ты наконец. Дело в уважении. Умная, покладистая девушка, услышав замечание от будущей свекрови, поблагодарила бы за заботу и пошла бы искать другой вариант. Это проверка. Простая проверка на гибкость, на мудрость. И твоя Вера её с треском провалила. Она вздумала мне дерзить. Доказывать что-то про свой «вкус».
Он смотрел на неё и понимал, что разговор с самого начала был обречён. Он приехал говорить о платье, а попал на судилище, где Вере уже вынесли приговор. Все его слова о любви, о вкусах, о современном мире отскакивали от её железобетонной уверенности в собственной правоте, как горох от стены.
— Она не дерзила, она пыталась объяснить свой выбор.
— Объяснить? — Елизавета Андреевна усмехнулась, и эта усмешка была хуже крика. — Девица с гонором, вот кто она. Она должна была проявить мудрость и промолчать. А она решила показать характер. Что ж, характер мы ей поправим. Семья — это не то место, где характеры показывают.
— Никто не будет ей ничего поправлять, — голос Антона утратил просительные нотки и стал твёрдым, как камень. Он чуть подался вперёд, оперевшись локтями о колени, и посмотрел на мать уже не как сын, а как мужчина, защищающий свою территорию. — Это наша с ней свадьба, мам. Наша. И мы будем решать, какое будет платье. И всё остальное — тоже мы.
Эта фраза, это спокойное и уверенное «мы», подействовало на Елизавету Андреевну, как удар хлыста. Её маска ледяного спокойствия треснула и осыпалась. Она перестала поправлять мебель и начала мерить комнату шагами — от окна к двери, от двери к окну. Её выверенный, упорядоченный мир был атакован, и она перешла в наступление.
— Ваша свадьба? Ваше решение? — её голос сбросил металлическую холодность, сменившись скрежещущим звуком, будто по стеклу провели напильником. — Ты так быстро забыл всё, сынок? Ты забыл, как она в первый раз пришла в этот дом? С букетом этих дешёвых хризантем. Жёлтых! Она что, не знала, что жёлтые цветы — к разлуке? Или это был тонкий намёк с самого порога? Я тогда промолчала. Проявила мудрость.
Антон молчал. Он помнил тот букет. Яркий, солнечный, который Вера схватила в цветочном ларьке по дороге, потому что они ей просто понравились. Она тогда протянула их его матери с такой открытой и радостной улыбкой, что у него самого потеплело на душе. Теперь он видел, как эту улыбку препарировали, вывернули наизнанку и поместили в архив обид под грифом «оскорбление».
— А помнишь ужин у дяди Вити? — продолжала она, её шаги становились всё быстрее, каблуки домашних туфель отбивали по паркету злую, нервную дробь. — Как она смеялась над его дурацкой армейской шуткой? Громко, запрокинув голову. Все мужчины на неё смотрели. Приличная, скромная девушка так себя не ведёт. Она привлекает к себе ненужное внимание. Я и тогда промолчала, только сделала ей знак глазами. Она не поняла. Или сделала вид, что не поняла.
Она остановилась прямо перед ним, глядя на него сверху вниз. Её глаза горели тёмным, холодным огнём. Это был не гнев обиженной матери. Это была ярость диктатора, чей приказ был проигнорирован.
— Дело не в платье, Антон! Неужели ты настолько ослеп? Дело в породе! В том, что она не понимает и не хочет понимать элементарных вещей! Она должна была чувствовать, как себя вести. Смотреть на меня, учиться, впитывать. Жена должна быть тенью мужа, его надёжным тылом, а не яркой вывеской, на которую все пялятся! Она должна была спросить моего совета. Не для того, чтобы последовать ему, а чтобы показать своё уважение!
Он смотрел на неё и слушал этот поток обвинений, в котором каждая мелочь, каждая улыбка Веры, каждый её жест были истолкованы как проявление неуважения, как вызов, как преступление против неписаных законов этой квартиры. Он приехал сюда с надеждой на компромисс, а обнаружил, что его невесту судят за то, что она просто была собой.
— Мам, это же… это несерьёзно. Цветы, смех… Это просто жизнь. Люди разные.
— Мелочи? — выплюнула она. — Жизнь состоит из мелочей, Антон! Из послушания, из такта, из умения вовремя прикусить язык! Я тебе уже сказала — это была проверка. И она её провалила. Я хотела увидеть в ней глину, из которой можно слепить достойную жену для моего сына. А увидела упрямый, необтёсанный камень. Но ничего. Я её научу. Я обязана научить её уму-разуму, пока она не испортила тебе жизнь окончательно. Я сломаю её упрямство. Для её же блага.
Слово «сломаю» повисло в стерильном воздухе квартиры, плотное и осязаемое, как запах полироли. Оно не было сказано в пылу ссоры. Оно было произнесено как план, как взвешенное и окончательное решение. Антон смотрел на мать и впервые за всё время этого разговора почувствовал не раздражение или досаду, а холодок, пробежавший по спине. Он понял, что приехал не улаживать бытовую ссору из-за куска ткани. Он приехал на объявление войны. Войны, в которой его невеста была назначена врагом, подлежащим уничтожению.
Вся его дипломатия, все заготовленные аргументы о вкусах и моде рассыпались в прах. Говорить с ней на этом языке было всё равно что пытаться потушить пожар керосином. Он решил сделать последнюю, отчаянную попытку достучаться не до её логики, а до того, что, как ему казалось, должно было оставаться незыблемым.
— Ты понимаешь, что делаешь больно не только ей? — его голос стал тише, но в нём появилась глубина, которой не было прежде. — Ты мне делаешь больно, мам.
Он ожидал чего угодно: что она остановится, задумается, может быть, даже смягчится. Но эта фраза произвела обратный эффект. Она стала детонатором.
Елизавета Андреевна замерла на полушаге. Её лицо, до этого просто злое, стало другим. Оно заострилось, будто кожа натянулась на череп, обнажая уродливую геометрию гнева. Она посмотрела на него так, словно он только что признался в самом страшном предательстве. Её сын, её продолжение, её собственность, посмел заявить о своей боли, встав на сторону чужачки.
— Тебе? Тебе больно? — прошипела она, и это шипение было страшнее любого крика. Она сделала шаг к нему, и он инстинктивно вжался в жёсткую спинку дивана. — Да что ты знаешь о боли, мальчишка? Ты притащил в мой дом первую встречную, девицу без роду, без племени, которая не знает элементарных правил приличия, и смеешь говорить мне о своей боли?
Её голос начал подниматься, набирая визгливые, истеричные ноты. Она больше не сдерживала себя, не играла в холодную королеву. Из-под маски благовоспитанной хозяйки полезло нечто тёмное, злобное, то, что она, видимо, прятала годами.
— Она тебя приворожила, околдовала! Ты смотришь на мир её глазами, говоришь её словами! Я вижу, как она тебя меняет! Ты стал дерзким, ты перестал меня слушать! Кто она такая, чтобы я, твоя мать, подстраивалась под её «вкус»? Какая-то дешёвка, которая думает, что если уцепилась за московского парня с квартирой, то поймала бога за бороду! Она должна на коленях ползать и благодарить за то, что я вообще пустила её на порог этого дома!
Поток яда лился без остановки. Каждое слово было нацелено на то, чтобы унизить, растоптать, уничтожить не только Веру, но и сам его выбор, его чувства, его право на собственную жизнь. И Антон слушал. Он больше не пытался её перебить. Он сидел и смотрел на эту женщину, которая его родила, и не узнавал её. Или, наоборот, впервые в жизни видел её настоящую, без прикрас.
Она остановилась, чтобы перевести дух, её грудь тяжело вздымалась. Она подошла почти вплотную, и он почувствовал резкий запах её духов, смешанный с чем-то кислым. Она наклонилась, и её лицо оказалось прямо перед его.
— Так вот, запомни, сынок, — произнесла она медленно, отчётливо, вкладывая всю свою ненависть в каждое слово. — Я преподам ей урок. И тебе заодно.
— Мам… Ну, не надо…
— Если твоя подстилка, сынок, ещё раз со мной заговорит в таком тоне, я ей прямо на вашей свадьбе всю морду разукрашу!
Эта фраза не была криком. Она была приговором. Она упала в комнате, и после неё не осталось ничего.
И в этот самый момент внутри Антона что-то оборвалось. Не с треском, не со стоном, а тихо и окончательно, как перерезают тонкую проволоку. Это была не горячая волна гнева, не обида, захлестнувшая горло. Это была ледяная, абсолютная пустота. На её месте, где-то в глубине живота, зародилось и медленно поползло вверх новое, незнакомое ему чувство. Омерзение. Он смотрел на искажённое злобой лицо матери и понимал, что больше не видит в нём родного человека. Он видел чужую, злую женщину, которая только что сказала что-то непоправимое. И эта женщина ему отвратительна. Аргументы закончились. Разговор был исчерпан. Навсегда.
Выплеснув яд, Елизавета Андреевна ждала. Она стояла, тяжело дыша, и смотрела на сына с уродливым, хищным торжеством. Она нанесла решающий удар, самый унизительный и болезненный, и теперь ожидала предсказуемой реакции: крика, мольбы, может быть, даже капитуляции. Она была уверена, что загнала его в угол, напугала, поставила на место, как ставила всегда. Она ждала, что он сломается.
Но Антон не сломался. Он молчал. Ледяное омерзение, зародившееся в животе, добралось до самого сердца и заморозило его. Он смотрел не на мать, а как будто сквозь неё, на узор на обоях за её спиной. В её искажённом злобой лице не осталось ничего, за что можно было бы зацепиться, ничего родного. Только чужая, неприятная ему женщина. Прошла минута, может, две. Елизавета Андреевна начала нервничать. Её победная поза поникла, в глазах появилось недоумение. Это молчание было страшнее любой ответной ругани.
И потом он двинулся. Не резко, не демонстративно. Он медленно, с какой-то отстранённой плавностью, встал с дивана. Его движения были спокойными и до ужаса точными. Он не смотрел на неё. Он подошёл к журнальному столику, где лежали его ключи от машины, и взял их в руку. Холодный металл в его ладони ощущался как единственная реальная вещь в этой комнате, пропитанной ложью и ненавистью. Он повернулся и направился в прихожую.
— Антон? Ты куда? — её голос прозвучал уже не так уверенно. В нём прорезалась первая нотка паники. Она не понимала, что происходит. Сценарий был нарушен.
Он молча надел куртку. Застегнул молнию. Каждое его движение было доведено до механического автоматизма, словно он выполнял давно заученную программу. Только закончив, он повернулся к ней. Он стоял в полумраке прихожей, и свет из гостиной падал на его лицо, делая его похожим на маску — безэмоциональную и холодную.
— Хорошо, мам, — его голос был ровным, спокойным и абсолютно безжизненным. В нём не было ни боли, ни гнева. Только констатация. — Можешь не беспокоиться.
Елизавета Андреевна шагнула к нему, инстинктивно протягивая руку, но тут же её отдёрнула.
— О чём не беспокоиться? Антон, мы не закончили…
— Мы закончили, — мягко поправил он. И эта мягкость была страшнее всего, что она слышала от него за всю жизнь. — Никакой свадьбы для тебя не будет. Ты на ней не появишься.
Он сделал паузу, давая словам впитаться в воздух.
— И Веры ты больше не увидишь. Никогда.
Она замерла, её рот приоткрылся в немом изумлении. Она хотела что-то крикнуть, возмутиться, но слова застряли в горле. Он видел, как меняется её лицо, как на нём проступают растерянность и запоздалый страх.
— И меня тоже, — добавил он так же спокойно и буднично, как говорят о погоде. — Можешь считать, что у тебя больше нет сына.
Он не стал ждать ответа. Он не прощался. Он просто повернулся, открыл входную дверь и вышел. Щелчок замка прозвучал в оглушительной тишине квартиры, как выстрел.
Елизавета Андреевна осталась одна. Она стояла посреди своей идеальной гостиной, где каждая вещь знала своё место. Воздух всё ещё пах лимонной полиролью. Фарфоровые слоники всё так же стояли по росту на сверкающей полке. Но порядок больше не приносил удовлетворения. Он стал удушающим. Она медленно опустилась на тот самый диван, обитый жёстким гобеленом, и обвела комнату пустым взглядом. Она победила. Она отстояла свою правоту. Она доказала, кто в доме хозяин. И в награду за эту победу она осталась совершенно одна, в безупречно чистой, стерильной тюрьме, которую она сама для себя построила. Её правота оказалась никому не нужной, а цена за неё — невообразимо высокой…