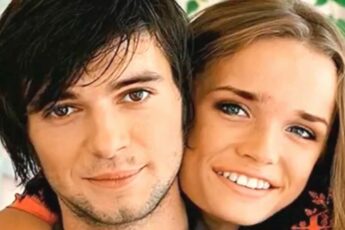- Глава первая. Новый год в одиночестве
- Глава вторая. Встреча, которой не должно было быть
- Глава третья. Грешно оставить на морозе
- Глава четвёртая. Сюрреалистическое утро
- Глава пятая. Постепенное сближение
- Глава шестая. Старые раны
- Глава седьмая. Случайное открытие
- Глава восьмая. Неожиданный поворот
- Глава девятая. Выбор, от которого зависит всё
- Глава десятая. Письмо из Вечного города
Глава первая. Новый год в одиночестве
— Пятый раз говорю: рейс не отменён, а задержан, — произнесла Людмила Андреевна с усталым нажимом в голосе, от которого в трубке повисло кислое молчание, и тут же, будто не дождавшись подтверждения, добавила: — Автобус вышел из Петровска, но его замело на перевале. Водитель передал: будут через два часа, может — три. Я вас понимаю, но мороз не я придумала.
Она аккуратно положила трубку, стараясь не хлопнуть, как было бы в молодости, и потёрла переносицу, на которой, казалось, уже проступила вмятина от очков. За стеклом диспетчерской — тёмная, хрустальная ночь, пересыпанная фонарным снегом.
Автовокзал был похож на усталого великана — с облупившейся лепниной, скрипучими дверями и характерным запахом, в котором смешивались дизель, мокрые варежки и давний нафталин. В этом запахе было что-то почти родное, как в старом пальто: и стыдно, и уютно.
— Людочка, ну ты даёшь. В такую ночь, и на вахте, — сочувственно покачала головой Лариса Петровна, уборщица с двадцатилетним стажем и неизменной вязаной шапкой, на которой когда-то был бубон. — Мужики с семьями, бабы с салатами, а ты тут — как на гражданской обороне. Дежурная мать Родина.
— Не с кем мне салаты, Ларис, — ответила Людмила, доставая из пакета термос с чаем и пару бутербродов с копчёной колбасой. — Муся моей «Оливье» не уважает, только колбасу выедает, вредная до ужаса.
— Ой, Люд, — вздохнула та, присаживаясь на стул у батареи. — А вот я тебе что скажу. Всё ты сильная, всё ты правильная. А кто о тебе под Новый год подумает?
Людмила пожала плечами, будто отмахнулась от назойливой мухи. На такие вопросы она давно не отвечала — не потому что не было слов, а потому что были только старые, затёртые ответы, и повторять их было всё равно, что бормотать молитву без веры.
— Слушай, — продолжила Лариса, понизив голос, — а давай я тебе хотя бы «Советское» оставлю? У меня две бутылки. Одну с сыном, другую — на чёрный день.
— А ты считаешь, что у меня сегодня не чёрный день? — хмыкнула Людмила, но взгляд у неё был тёплый.
— Ну, давай скажем — серый. Не весь чёрный, а как у нас снег на остановке: с солью, с надеждой на чистоту. Возьми, Люд, ну правда, Новый же год. Выпьешь сто грамм — и, глядишь, кто-нибудь придёт. Случайный, но нужный.
Людмила усмехнулась, но взяла бутылку. Остаться с алкоголем в смену — это почти как остаться без смены. Но в этот вечер ей было странно всё равно.
— А ты чего домой не идёшь?
— Жду, пока эти с Питерского доберутся, — буркнула та. — Автобус у них, видите ли, подменили, теперь без багажника. Шесть чемоданов и попугай. Уперлись в тамбур, как в коммуналке, каждый со своим характером. Ой, Люд, работать с людьми — это как стирать пуховик в тазу: сначала мокро, потом тяжело, потом вонь, а толку — ноль.
Они посидели молча. С улицы доносился редкий гул двигателя, сквозняк носил по вестибюлю снежную пыль, дежурные часы отсчитывали последние минуты уходящего года. За пять лет с тех пор, как не стало Васи, Людмила разучилась что-то ждать. Она жила, как те автобусы: расписание есть, но погода — не подчиняется.
— Вот и двенадцать, — заметила Лариса, глядя на светящийся дисплей телефона. — С Новым тебя, Людочка. Жива — и ладно.
— С Новым, — кивнула Людмила. — А Муся, между прочим, тоже ждёт. Ей по графику — тунца с желе.
Когда она вышла на улицу, завязывая шарф на ходу, было тихо. Даже слишком. Ни фейерверков, ни взрывов петард, ни визга пьяных голосов. Только ночь. Морозная, как стёкла в «Оке», и нежная, как лапы у её Муси, когда та крадётся к подушке.
Старенькая машина послушно фыркнула, как старая собака, узнав хозяйку, и фарами разрезала пустую дорогу. Впереди — шесть кварталов к дому, две сплошные колеи, один поворот и ни одного чуда. Так думала Людмила.
Но у судьбы, как у диспетчера, всегда был запасной маршрут.
Глава вторая. Встреча, которой не должно было быть
Людмила никогда не любила ехать ночью. Машина её, верная «Ока» цвета выцветшей зелени, подрагивала даже на ровной дороге, словно ёжилась от холода. Печка работала, как старый самовар — гудела, но грела с задержкой.
Радио молчало, а вместо музыки доносился только характерный посвист сквозняка и поскрипывание руля. Но в эту ночь ей было всё равно. Сердце било мерно, мысли были будто затянуты ватой. Она знала, что дома её ждёт только Муся, миска с кормом и телевизор, который сама и выключит.
За окном проносились заснеженные дома, будто карточные домики, расставленные вдоль дороги судьбы. На перекрёстке, где всегда стоял одинокий киоск с табличкой «Пиво», теперь было темно. У поворота на старую котельную, где дорога делала плавный изгиб, фары выхватили из мрака человеческую фигуру.
Он стоял посреди дороги, как будто вырос из асфальта. Без шапки, в лёгкой куртке, с руками, безвольно свисающими вдоль тела. Лицо было размытым пятном — свет фар слепил, и Людмила, на секунду застыла, прежде чем инстинктивно ударить по тормозам.
— Господи! — вырвалось у неё, пока колёса с визгом скользили по укатанному снегу.
Машина замерла в полуметре от него. Сердце грохотало в груди, как поезд в тоннеле. Несколько секунд они смотрели друг на друга — она из-за стекла, он — через встречный свет. Потом Людмила выскочила, забыв выключить фары, и почти крикнула:
— Ты с ума сошёл?! Ты жить устал, что ли?!
Мужчина не ответил. Он не шевелился. Только губы дрогнули, как будто хотел что-то сказать, но забыл слова.
— Эй… ты в порядке?
Он кивнул. Медленно. Почти незаметно. Вблизи Людмила увидела, что он босиком — в тонких кедах, без перчаток, с покрасневшими пальцами. Лицо — смуглое, худощавое, нос прямой, губы потрескались от мороза. И взгляд… взгляд был — откуда-то издалека. В нём было столько усталости, будто он шёл к ней не одну ночь, а целую зиму.
— Ты откуда? Где шапка? Ты чего здесь вообще?
— Я… Рафаэль, — сказал он с заметным акцентом. — Я… sorry… я… no cold… Я… заблудился?
Он явно подбирал слова, словно на ощупь, среди тумана.
— Что значит “no cold”? Да ты же льдом покрыт, Рафаэль, — процедила она, закутывая его в свой второй шарф. — Так, ладно. Полиция тебе сейчас только и нужна. Они сами накатили, небось. Поехали.
— Поехали? — переспросил он, будто удивился самому существованию глагола.
— Да. Поехали. Ты что, на остановке ждал кого-то? Так я твоя остановка. Дальше некуда.
Она повела его к машине, сажая на переднее сиденье. Рафаэль оглядел салон, как будто никогда не видел такого пространства: осторожно потрогал бардачок, попытался понять, как пристёгивается ремень. Людмила завела мотор и снова почувствовала, как пальцы дрожат. Не от страха — скорее, от странного ощущения, что всё происходящее выходит за рамки объяснимого.
— Муся нас не простит, — пробормотала она. — Мяукать будет до утра.
Рафаэль, уловив звук имени, слегка наклонился к ней:
— Муся? Кот?
— Да, — кивнула Людмила, и вдруг ей стало смешно. — Ты не только без шапки, но и телепат. Всё, Рафаэль. Поехали греться. А завтра — разберёмся, кто ты и откуда.
Рафаэль кивнул. И в этом кивке было больше благодарности, чем можно было выразить словами на любом языке.
Машина тронулась. А дорога, как часто бывает в начале новой жизни, казалась уже не такой длинной.
Глава третья. Грешно оставить на морозе
Квартира Людмилы Андреевны, унаследованная от родителей и слегка обжитая уже вдовьим одиночеством, встретила их приглушённым теплом и запахом, в котором навсегда остались нотки библиотечной пыли, сушёной мяты и когда-то сваренного грушевого варенья.
Муся, как и положено кошке с характером, молча взирала с подоконника, не бросаясь с радостью, но и не прячась — оценила ситуацию, будто старая дама, встретившая неожиданного кавалера.
Рафаэль вошёл осторожно, на цыпочках, словно ступал по льду, не зная, выдержит ли поверхность. Он обвёл комнату взглядом, в котором не было ни удивления, ни насмешки, только внимательное, почти благоговейное участие — будто вошёл не в скромную двушку на окраине, а в камерную галерею с тёплой историей.
— Sit, please… — произнёс он с лёгкой улыбкой, жестом указывая на кресло, будто предлагал ей самой присесть в её собственном доме.
— Да ты, гляди, ещё и воспитан, — пробормотала она, стягивая с него шарф. — Хотя я б тоже манерам научилась, кабы босиком по январю прошлась.
Он попытался разуться, но она остановила его движением руки:
— Да не сейчас. Ноги обморозишь — сам себе не рад будешь. Сначала — в ванну, потом — чай.
Рафаэль послушно кивнул и направился в сторону, которую она указала, ловко подхватывая расстёгнутую куртку. Двигался он плавно, почти грациозно, будто бы и вправду был не случайным человеком с обочины, а кем-то совсем иным — аристократом в изгнании или балетным солистом, потерявшим партитуру жизни.
Пока он плескался в ванной, Людмила сама не верила в то, что происходит. Она поставила чайник, выложила на блюдце два печенья с повидлом, смахнула невидимую пылинку с кухонного стола и вдруг села. Просто так — села и уставилась в пустоту.
Сердце билось размеренно, но в голове роились мысли: «Что ты творишь? Привела в дом незнакомца. Да ещё в Новый год. У тебя в телефоне даже Face ID не стоит, а ты — двери настежь.»
Муся прыгнула на стул напротив и, кажется, уловила её растерянность. Мяукнула тихо, как будто сказала: «Грех, может, и страшен, но равнодушие — страшнее».
Когда Рафаэль вышел, волосы у него были аккуратно зачёсаны назад, на нём висел её старый трикотажный халат, который она когда-то берегла для мужа. Вид у него был, конечно, странный — босые щиколотки и шнурок, завязанный на манер римского пояса, но глаза светились — по-настоящему, не дежурно.
— Thank… спасибо, — сказал он, подойдя к столу.
— Садись. Чай — зелёный. Печенье — вчерашнее, но не отрава.
Он улыбнулся, чуть кивнул, и в этот момент Людмила впервые заметила: у него красивые руки. Не те, что наделаны в спортзале или обветрены рыбалкой, а тонкие, как у музыканта или врача. Такие руки не держат топора, но помнят прикосновение.
— Рафаэль… — начала она, глядя на него в упор. — Ты кто? Ну… хоть немного. Откуда?
Он пожал плечами. Приложил ладонь к груди:
— Italia. Рим. Потом… не помню. — Он постучал пальцами по виску. — Здесь — белый экран.
— Документы?
Он развёл руками, почти извиняясь. Потом полез в карман штанов и достал смятую бумажку, на которой карандашом было выведено: Raphael S. Napoli. 1982. Ни паспорта, ни телефона, ни даже мелочи.
— Значит, ты — Рафаэль. Без фамилии, без зимней одежды и без памяти. В Новый год. Как в притче.
Он кивнул. И вдруг, беззвучно, пальцами постучал по столу ритм «Сleaning Windows» Ван Моррисона. Она вздрогнула — этот трек ставил по выходным её покойный муж, любил повторять: «Людка, музыка не лечит, но объясняет.»
Рафаэль смотрел на неё, как будто знал. Или чувствовал. Или… просто был таким человеком, с которым не нужно слов, чтобы понять друг друга.
— Ну, Рафаэль… — выдохнула она. — Живи пока у нас. Муся против не возражает. А дальше — видно будет.
Он сложил руки, как в молитве, и чуть склонил голову. И Людмиле стало вдруг спокойно. Странно и необъяснимо — как будто где-то в сердце наконец перестал дуть сквозняк.
Глава четвёртая. Сюрреалистическое утро
Проснулась она рано, непривычно рано для первого января, когда, казалось бы, вся страна должна храпеть под одеялом до обеда, переваривая вчерашний «Оливье» и крошки мандаринов. Но что-то разбудило Людмилу — не шум, не кошка, не будильник. А скорее, чувство, будто в доме изменилось давление воздуха, и оно больше не подчиняется её одиночеству.
Она приподнялась в постели и сразу уловила странное: из кухни доносился звук воды. Мерный, неторопливый, почти ласковый — как если бы посуду мыла не машина, а человек, умеющий уважать тишину.
Она встала и, накинув халат, пошла на звук. Муся, сидевшая у двери, повернула к ней голову и выразительно моргнула: «Я тут дежурю, хозяйка. Он всё ещё тут».
Рафаэль стоял у раковины, по-военному аккуратно сложив на стул кухонное полотенце. На плите шкворчала сковорода, откуда тянуло ароматом жареного теста — сладковатым, тёплым, детским. Он мыл посуду с таким выражением лица, будто совершал ритуал.
— Доброе утро, — тихо сказала Людмила, не желая его испугать.
Рафаэль обернулся. Его лицо осветилось радостью, которая была слишком искренней, чтобы быть вежливой. Он махнул рукой, как бы приглашая её за стол:
— Buon giorno! — сказал он весело. — Oladji… o-la-dji…
Он протянул ей деревянную лопаточку, демонстративно перевернув аккуратный кружок теста на сковороде.
— Ты печёшь оладьи?
Он кивнул, с гордостью. Потом вдруг прижал руки к груди и прошептал:
— Mama… siempre… siempre così… — и пальцем нарисовал в воздухе круг.
— Мама всегда так делала? — уточнила она. — Значит, ты это помнишь?
Он помедлил. Покачал головой — неуверенно, как будто память была где-то рядом, но ещё в тумане. Затем дотронулся до виска и чуть развёл руками в стороны:
— Nebbia. — Туман.
— И имя своё помнишь. И мама оладьи делала. Уже не пусто, Рафаэль.
Он улыбнулся, снова кивнул и жестом предложил ей сесть.
Стол был накрыт на двоих. Салфетки — идеально сложены. Кофе — растворимый, но пах так, будто его мололи вручную. Печенье выложено на блюдце в форме цветка. А рядом — оладьи, ровные, как на фотографии в кулинарной книге 80-х годов.
Людмила села, чувствуя себя гостьей в собственной кухне. Было странно, но не неприятно. Почти уютно. Почти как в другой жизни.
— Ты кто такой, Рафаэль? — вдруг спросила она, не столько ожидая ответа, сколько вслух задавая себе вопрос.
Он поднял глаза. Несколько секунд просто смотрел. Потом снова приложил руку к груди:
— Uomo… perso… — Мужчина… потерянный.
И тут же добавил, будто на всякий случай:
— Ma non cattivo… — Но не плохой.
Людмила вздохнула.
— Плохой бы не жарил оладьи и не мыл мою кастрюлю, которую я сама боюсь трогать. Так что… допустим, ты не плохой. Но кто ты?
Рафаэль покачал головой, приложил палец к губам, как бы прося тишины, и шепнул:
— Aspetta… piano piano… — Подожди… потихоньку…
— Потихоньку, значит, — пробормотала Людмила, разламывая горячую оладью. — Ну что ж. Вдвоём легче ждать.
Он кивнул, словно заключал с ней союз.
А за окном светало. Снег медленно падал, ложась на карнизы и ветки деревьев, как будто кто-то очень аккуратный украшал этот мир заново.
Глава пятая. Постепенное сближение
Зима стояла хрустальная, тихая, как в дореволюционных стихах — с серебристыми ночами, синим дымом из труб и такой звенящей тишиной, что скрип половиц казался поступью истории.
Людмила Андреевна шла на работу и возвращалась домой с удивительным чувством — не тревоги, не раздражения, не предсказуемой усталости, а какого-то смутного, даже юношеского ожидания. Будто в её жизни кто-то случайно оставил незапертую дверь, и из этой щели теперь сочился свет.
Рафаэль жил в её доме, как будто всегда здесь был. Не как квартирант, не как постоялец, а как человек, который умеет быть «в тему» — не мешая, но присутствуя.
Утром он заваривал ей кофе. Причём по всем правилам, которые вычитал — как она поняла позже — в каком-то старом блоге, переведённом через Google Переводчик. Он ставил чашку на подоконник, где она любила пить и смотреть, как Муся охотится на снежинки, и говорил:
— Buongiorno, Lu… Ludmi… — он каждый раз спотыкался на имени, и это было мило.
Днём, пока её не было, он стирал свои вещи, вешал их аккуратно по росту на балкон, вытирал пыль с подоконников и однажды даже перемыл люстру. Когда она вошла и увидела, что хрустальные подвески сверкают, как в дорогом отеле, у неё от удивления вырвалось:
— Это ты сделал?
Рафаэль стоял на табурете, улыбаясь, и, чуть склонив голову, ответил:
— Luce. Свет… тебе идёт.
— Ты с ума сошёл, — пробормотала она, чувствуя, как щёки предательски заливает румянец. — В моём возрасте уже всё не идёт, а катится.
Он рассмеялся, по-настоящему, мягко, как смеются люди, в которых нет желания доказать, только — понять.
Однажды она вернулась и застала его сидящим в кресле с книгой — её стареньким томиком Куприна, в обложке с лисьей шероховатостью. Он не читал, а, скорее, изучал — под каждой строчкой в телефоне был открыт Google Translate, и он двигал пальцем, сопоставляя слова, словно восстанавливал связь между собой и миром.
— Ты что, Куприна осилил? — спросила она.
Рафаэль поднял взгляд, немного смущённо.
— Я читаю… molto lentamente… очень медленно… но красиво… — и показал пальцем на строчку, которую как раз переводил.
Людмила подошла и прочитала:
«Когда человек один, даже голос его звучит иначе — как будто с глухим эхом.»
— Ну ты дал, — выдохнула она. — Такое даже не каждый наш мужик поймёт.
Он пожал плечами:
— Я не мужик. Я Рафаэль.
После этого они вместе смеялись. Первый раз — легко и свободно, как будто весь ледяной воздух января наполнился дыханием весны.
Но именно после этого Людмила начала бояться. Не Рафаэля — нет. А себя. Точнее, того, что с ней происходило. Она ловила себя на том, что выбирает носить дома не вытянутый свитер, а тёплый кардиган с поясом. Что подкручивает волосы, прежде чем выйти из ванной. Что следит за собой, как следят перед свиданием, только… свидания нет.
И каждый вечер, сидя за столом, наблюдая, как он чинит старую розетку, которая когда-то била током мужа, она спрашивала себя:
«Неужели это возможно — почувствовать привязанность? После пяти лет тишины? После похорон, после замороженных планов, после всех этих пыльных альбомов в ящике комода?»
Рафаэль не задавал вопросов. Он просто был рядом. Готовил пасту с кетчупом, потому что другого соуса не нашёл, и делал это с видом, будто подаёт блюдо в «Траттории да Энцо». Убирал за собой аккуратно. Читал. Молчал. Смотрел на неё так, будто слушал музыку, которую слышит только он.
А однажды, проходя мимо, слегка коснулся её локтя — будто случайно. И этот жест был тоньше любого признания.
Людмила не знала, что будет дальше. Но впервые за долгое время она перестала бояться завтрашнего дня.
Глава шестая. Старые раны
Память, как известно, — коварная штука: она не подчиняется логике, не любит приглашений и всегда приходит, когда не ждёшь. У Людмилы она накатила в тёплый вечер, когда Рафаэль, насвистывая что-то из Моцарта — пусть и фальшиво, — подметал балкон старой веничкой. Он пел без слов, будто ребёнок, и этот незатейливый мотив вызвал в ней такую волну, что она чуть не уронила чашку с недопитым чаем.
Она встала, тихо закрыла дверь в комнату и ушла в спальню. Там, как всегда, было прохладно. Как всегда — один и тот же запах лавандового саше в комоде. Как всегда — его рубашки, которых она не выбросила. Не смогла. Не захотела. Не решилась. Каждый год обещала себе: «весной разберу». И каждый раз — нет.
Вспомнилось сразу всё.
Как зимой, когда снег был такого же оттенка, как сейчас, она стояла на кладбище, держась за поручень гроба, будто за последнюю точку опоры. Василий был мужчиной надёжным, основательным. Он не делал громких признаний, не устраивал сюрпризов, но был как фундамент — не виден, но держит дом.
Они прожили вместе шестнадцать лет. Без фейерверков, но с теплом. Без страстей, но с заботой. Он всегда знал, где лежат её таблетки, где носки сына, даже когда сын уехал. Он знал, как она любит кофе — с молоком, но не горячий, чтобы не обжечь язык. И каждую весну повторял:
— Люд, а давай махнём в Рим? Туда, где «все дороги». Надо же когда-то глянуть, куда нас ведут.
— Вася, ну какой Рим? У нас дача, у нас крыша течёт, у нас внуки — когда-нибудь. Потом.
Но «потом» не случилось. Случился инфаркт. Две недели в реанимации и глухое «не спасли». И всё. Ни Рима. Ни крыши. Ни даже простого «до свидания».
После похорон она не плакала. Она вытирала нос в платок и говорила себе: «Жить надо. Жить». Но не жила. Существовала. От смены к смене. От еды до сна. От Муcи — до утреннего радио.
И вот теперь — Рафаэль.
Итальянец без документов. Без прошлого. С глазами, в которых можно утонуть — или спастись. Чужой, незваный, почти невозможный. И вдруг — близкий.
Это предательство — чувствовать тепло к другому? — спрашивала она себя, глядя на своё отражение в зеркале, в котором глаза были другие. Не вдовьи. А… живые?
Или всё же — это жизнь? Та самая, которую она отложила на потом?
Она не знала. Но сердце, похоже, уже знало.
Людмила села на край кровати, провела пальцами по старому, истёртому пледу, вспомнила, как когда-то Василий подсовывал его под её ноги, чтобы «не тянуло». И вдруг прошептала — не Рафаэлю, не Василию, даже не себе. Просто — в пространство:
— Прости. Мне страшно. Но мне ещё хочется жить.
С балкона донеслась фраза с ударением не на том слоге:
— Ludmila! Я закончивать! Метла — как дракон!
И она улыбнулась. Сквозь слёзы, сквозь память, сквозь боль.
Потому что где-то там, в сердце, тишина оттаивала. И, возможно, в этом была не вина, а прощение.
Глава седьмая. Случайное открытие
День выдался серый, томительный. Тот самый, когда снег идёт не снежинками, а ватными клочьями, а небо висит так низко, что кажется — вдохнёшь чуть глубже, и заденьшь облака подбородком. Рафаэль ушёл на почту — сам настоял:
— Надо… письмо. Может, кто искать… я… помочь себе… — объяснял он, подбирая слова, как костяшки от разбитого домино.
Людмила осталась одна. Впервые за последние дни — одна. И вместо радости у неё внутри поселилась нервозность, почти злая. Муся обиженно ушла в спальню, не приняв смену погоды в доме.
Людмила пыталась читать, но взгляд всё время возвращался к креслу, в котором обычно сидел Рафаэль, к чашке, с которой он всегда дул на чай, хотя он был едва тёплый, к его тетрадке — по-детски исписанной русскими буквами, наискось, криво: дом, чай, ты, снег, сердце…
Она подошла к комоду. Его вещи лежали в нижнем ящике — аккуратно, сложенные с педантичностью человека, который не хочет обременять. И именно поэтому ей показалось допустимым — не роясь, не копаясь — просто… поправить. Немного. Случайно.
Когда под ладонью сдвинулась тёплая ткань шерстяного свитера, что-то щёлкнуло. Маленькая коробочка, металлическая, как старые леденцовые баночки. Людмила на секунду замерла, потом, как будто действуя не по своей воле, открыла её.
Внутри лежал кулон. Простой, из тёмного металла, с изящной гравировкой — всего одно слово: Amo.
«Люблю» — пронеслось в голове. Она знала. Почему-то знала сразу, что это не просто украшение.
Рядом — фотография. Старая, потёртая. На ней — женщина, смуглая, с чёрными волосами, закинутыми в небрежный пучок, и мальчик лет восьми, улыбающийся слишком широко, как будто смех застыл в момент съёмки. Рафаэль стоял за ними, положив руку на плечо ребёнка. Лицо — то же самое, только свежее, моложе, ярче. Он смотрел в объектив — уверенно, свободно. Словно он точно знал, кто он есть.
Людмила села на край кровати, зажав в руках кулон, будто он мог обжечь. Мысли не складывались в фразы. Только чувство — жгучее, тёплое, пугающее. Ревность? Но к кому? К женщине на фотографии, к тому, кем он был до неё, или… к себе — за то, что допустила близость?
Звонок в дверь заставил её вздрогнуть. Она сунула кулон обратно в коробочку, спрятала в ящик и поспешила открыть. Рафаэль стоял на пороге, заснеженный, как снеговик. В руках — крошечный пакет с почты, в глазах — извинение.
— Я… долго? Прости… очередь… снег…
Она смотрела на него, не в силах заговорить сразу. Он вытер ноги, поставил ботинки на подставку, привычно взял веник, чтобы убрать снежную крошку у порога, и только потом заметил её взгляд.
— Людмила… всё хорошо?
Она кивнула. Слишком быстро.
— Ты… помнишь, кто на фото?
Рафаэль вздрогнул, и выражение лица у него на миг стало чужим. Как будто внутри вспыхнула молния.
— Фото? — переспросил он, и было ясно, что понял, о каком фото идёт речь. — Не знаю… лицо… знакомо… но… внутри — пусто.
Он прижал руку к сердцу.
— Никак. Пусто.
Людмила вдруг ощутила, что дышит тяжело. Словно комната стала тесной, как старое пальто. Ей хотелось закричать: «А может, ты врёшь? Может, ты актёр? Может, это жена, это сын, и ты сейчас живёшь у меня, пока кто-то тебя ищет?!»
Но она ничего не сказала. Только кивнула, прошла на кухню, включила чайник и, спиной к нему, спросила:
— Тебе с лимоном или просто?
— Просто… если можно…
И в его голосе не было ни вины, ни лжи. Только — беспомощность.
А в душе у неё бушевало то, что она так долго держала за железной дверью. Не чувства. Не страсть. А страх. Потому что чем ближе становился Рафаэль, тем явственнее она чувствовала: он может уйти. Он может вернуться — к кому-то. А она… снова останется.
И кулон с надписью Amo теперь казался ей вопросом, на который она ещё не готова была отвечать.
Глава восьмая. Неожиданный поворот
В тот день утро началось без музыки. Рафаэль, обычно бодрый и жизнерадостный с самого рассвета, сидел у окна, словно вкопанный, глядя в снег. Руки лежали на коленях, взгляд был затуманен, а губы сжаты так крепко, будто он боялся, что из них вырвется что-то непоправимое.
— Рафаэль, тебе плохо? — осторожно спросила Людмила, ставя перед ним кружку с горячим чаем.
Он не ответил сразу. Потом тихо произнёс:
— Снег… как в детстве. Только тогда — радость. Сейчас — ничего.
Она присела рядом, положила ладонь на его руку. Он не отдёрнул.
— Хочешь, я попробую найти кого-нибудь, кто поможет тебе вспомнить? Поговорить… понять, кто ты. Есть у нас одна… переводчица. Людмила Тимофеевна. В управлении раньше работала с мигрантами. Она умная. И людей читает, как книжку.
Рафаэль посмотрел на неё с благодарностью. Не как больной на врача. Не как подопечный на спасителя. А как человек, который больше не хочет быть загадкой ни для других, ни для себя.
— Да… хочу.
Переводчица приехала через два дня. Женщина лет пятидесяти, с колючими глазами, без лишней любезности. Она вошла в квартиру, как в рабочее помещение: повесила пальто, быстро осмотрелась и без предисловий сказала:
— Рафаэль? Была такая заявка. В декабре. Исчез в пути следования «Ростов — Санкт-Петербург». Билеты куплены на двоих, но второго пассажира не нашли. Уточняем — дочь.
— Дочь? — Людмила почувствовала, как холодно стало в груди. — Он… ведь не говорил…
Рафаэль, услышав знакомые слова, напрягся. Переводчица перешла на итальянский, жесты стали выразительнее. Сначала он молчал, потом вдруг что-то внутри прорвалось.
— La mia bambina… io dovevo trovarla… Era tutto. Tutto quello che avevo… — Он говорил, будто запыхавшись, будто бежал к этим словам долго, через ночь и потерю.
— Что он говорит? — прошептала Людмила.
— Что должен был найти дочь. Что она была всем, что у него осталось. Его жена умерла. — Переводчица взглянула на Людмилу сухо, почти равнодушно. — Он вдовец.
Рафаэль вдруг поднялся, подошёл к комоду и вытащил ту самую коробочку. Достал фотографию, кулон. Подал переводчице.
— Chi sono? — спросил он тихо. Кто они?
Женщина взглянула. Мелькнула искра узнавания. Потом — кивок:
— У нас есть такие фото. В базе. Женщина — Джулия С., итальянка. Работала врачом. Погибла в ДТП. Ребёнка увезли в Петербург. Дальше… всё сложно. Документов нет. Родственников почти нет. Он — отец. Но связь потеряна. Он поехал искать. И, видимо… сломался.
— Сломался? — переспросила Людмила. — Как вещь?
— Не хуже. Психика — дело тонкое. Стресс, потеря, дорога. Поездка — в никуда. И вот он здесь. Жив, цел. Но… потерян.
Рафаэль смотрел на них обоих, как школьник, стоящий у доски, не зная правильного ответа. Только слёзы выступили в глазах — редкие, как зимний дождь. Он сжал кулон в кулаке.
Людмила не плакала. Но внутри у неё было так же мокро, как на асфальте после весеннего ливня.
Рафаэль не был её. Он был чей-то. Муж. Отец. Поисковик. Он просто зашёл к ней на передышку. На короткую остановку.
— И что теперь? — тихо спросила она.
Переводчица поправила очки.
— Теперь мы сделаем официальный запрос. Его, скорее всего, вызовут в управление. Попробуем связаться с дочерью. Вернём ему имя. Дом. Если повезёт — жизнь.
Людмила кивнула. Очень медленно. И только одна мысль стучала у неё в висках: А я? Куда мне теперь?
Рафаэль встал, подошёл к ней, взял за руку.
— Tu sei… luce. Ты — свет.
Она хотела ответить, но слова застряли в горле. И тогда она лишь кивнула — как на вокзале, когда провожаешь кого-то очень нужного, зная, что, скорее всего, он не вернётся.
Глава девятая. Выбор, от которого зависит всё
Утро было на редкость ясным. Солнце обжигало снег, как будто хотело стереть с улиц саму зиму, а небо — чистое, как фарфор, — будто нарочно издевалось над её внутренним состоянием. День прощания всегда приходит с нелепо красивой погодой — как на похоронах, где цветы вянут быстрее, чем успеваешь их заметить.
Рафаэль собрался молча. Не как беглец. И не как мужчина, уезжающий навсегда. А как человек, который знает: дорога зовёт — и ты не можешь не ответить. Его чемодан был смешной, куплен в ближайшем «Магните», с оранжевой молнией и наклейкой «распродажа». Людмила смотрела на него и думала, что даже багаж у него выглядит временным.
— Ты уверен, что хочешь ехать один? — спросила она, поправляя воротник пальто, хотя на улице было тепло.
Рафаэль кивнул, положил руку ей на плечо, чуть наклонился и прошептал:
— Io devo andare. Ma tu… tu sei rimasta qui — dentro.
Я должен идти. Но ты… ты осталась здесь — внутри.
— А я? Мне как? — выдохнула она, больше себе, чем ему.
Он не ответил. Только посмотрел — долго, тихо, с благодарностью. Как смотрят не на женщину, а на пристань, которая укрыла от шторма.
— Ты нашёл, что искал?
— Ancora no. Ma adesso… io so dove cercare.
Пока нет. Но теперь… я знаю, где искать.
Прощание было недолгим. Без клятв. Без «пиши». Только его ладонь на её щеке, мгновенье дыхания — как прикосновение дождя — и шаг в сторону.
Дверь за ним закрылась мягко. Почти бесшумно.
Ночь. В доме — тишина. Муся дремлет у батареи, иногда перебирает лапами, будто ловит сны.
Людмила сидит в кресле. Чай остыл. Печенье крошится под пальцами. На кухне — радио. Старенькое, с потрескавшимся корпусом. Она не включает телевизор. Не хочет картинок. Только звук. Только голос.
Из радиоприёмника льётся музыка — новогодний концерт из Рима. Скрипка тянет мелодию, как будто кто-то плачет, но очень красиво. И в этих звуках — площадь, камни, по которым она никогда не ступала, голоса, которых не знает. Но теперь — знает одного.
Рафаэля.
Слёзы катятся по щекам. Не горькие. Не обидные. Тёплые. Тихие. Как дождь в мае, когда понимаешь: всё уже выросло, даже если ты этого не заметила.
Она не будет его искать. Не станет писать в посольства. Не поедет в Петербург или Рим. Не потому что не любит. А потому что поняла: есть люди, которые даны нам не для того, чтобы остаться. А чтобы напомнить, что ты ещё живая.
Живая. С жаждой. С болью. С сердцем, которое умеет — чувствовать.
И больше не боится.
Глава десятая. Письмо из Вечного города
Февраль в их городе всегда был хрупким, как фарфоровая чашка с трещиной — держится, но стоит чуть надавить, и всё распадается на кусочки. Сугробы припали, лёд стал прозрачным, почти стеклянным, а воздух — тот самый, предвесенний: терпкий, будто пропитан горечью прощаний и предчувствием перемен.
Людмила Андреевна жила по-прежнему — ходила на смены, мыла посуду, гуляла с Мусей по лестничной площадке и училась спать в тишине. Но что-то внутри изменилось. Не резко, не театрально — а как оттепель: сначала капля, потом ручеёк, потом — река.
И вот однажды утром в её почтовом ящике — обычно пустом, кроме квитанций и рекламы натяжных потолков — лежал конверт. Тонкий, белый, с иностранной маркой, в углу которого — имя: R. Sorrentino. Почерк — кривой, как у первоклассника. Но написано на русском. От руки. Это было трогательнее любой открытки.
Она села за кухонный стол, разрезала конверт ножницами, как в детстве, когда получала письма от подруг из пионерского лагеря. Внутри — фотография.
Рафаэль стоял на фоне какого-то итальянского дворика — узкие стены, пёстрая плитка, висячее бельё, словно флаги чужой страны. Рядом — молодая женщина, его дочь, с чёрными волосами, до боли похожая на ту самую с фотографии в коробочке.
В руках она держала мальчика лет шести. Мальчик улыбался широко — тем самым детским смехом, который не требует перевода. А Рафаэль… он держал их обоих за плечи и смотрел в камеру так, как смотрят только те, кто нашёл. Себя. Дом. Смысл.
На обороте фотографии — надпись. Корявая, неровная, с ошибками и дрожащими буквами:
«Ты – мой свет. Я не забуду.»
Людмила закрыла глаза. Сделала вдох — медленный, глубокий. Сердце билось спокойно. Не как влюблённое. Как у человека, который пережил.
Снаружи вдруг пошёл снег. Тот самый — не липкий и грязный, а настоящий. Чистый. Первый по-настоящему белый за всю зиму. Снег, который не оседает, а кружится, как музыка в Риме, как улыбка в письме.
Она подошла к подоконнику, глянула вниз и вдруг поняла: всё. Хватит быть вокзалом, где все уезжают. Хватит быть остановкой для других. Пришла пора самой — поехать.
Людмила включила компьютер. Открыла сайт РЖД. Вбила пункт назначения: Москва. Там — выставка, которую она хотела увидеть ещё пять лет назад. Там — подруга, с которой они сто лет не виделись. Там — вокзал. А за ним, кто знает, может, и Рим.
И — купила билет.
Не на вечер, не на потом, не «если ничего не случится».
А на завтра.